
Яков Агабабов,
врач, 1940–1950-е гг.
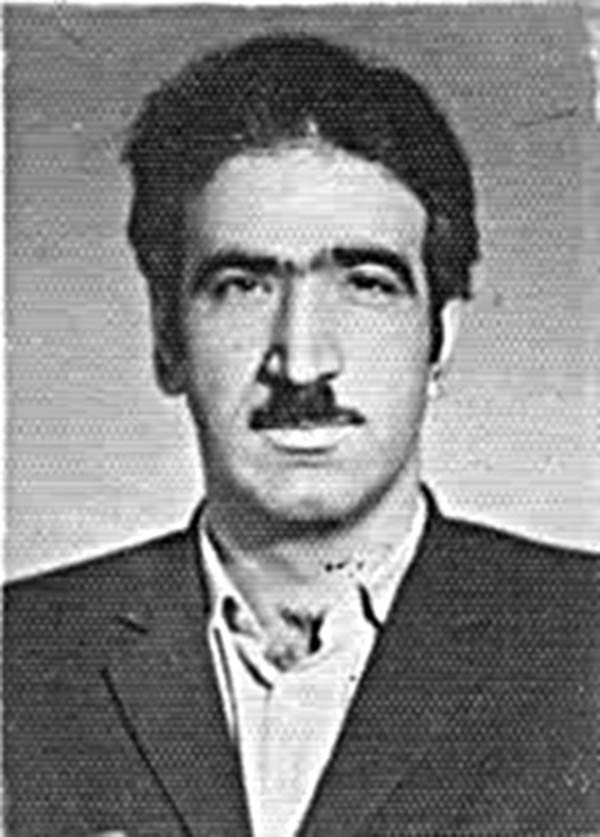
Я последний из рода Агабабовых, отец мой, Артём Агабабов, 1896 года, родом из Ольты, это одно из старейших армянских поселений на территории нынешней Турции. Ещё до входа турецких воинских частей в одну ночь была ограблена и вырезана вся его семья, отец, мать и десять братьев и сестёр. Отец служил в кавалерии, поэтому уцелел. К дому, где убили его родных, он прибыл только утром и вышел оттуда с широкой седой прядью в чёрных волосах.
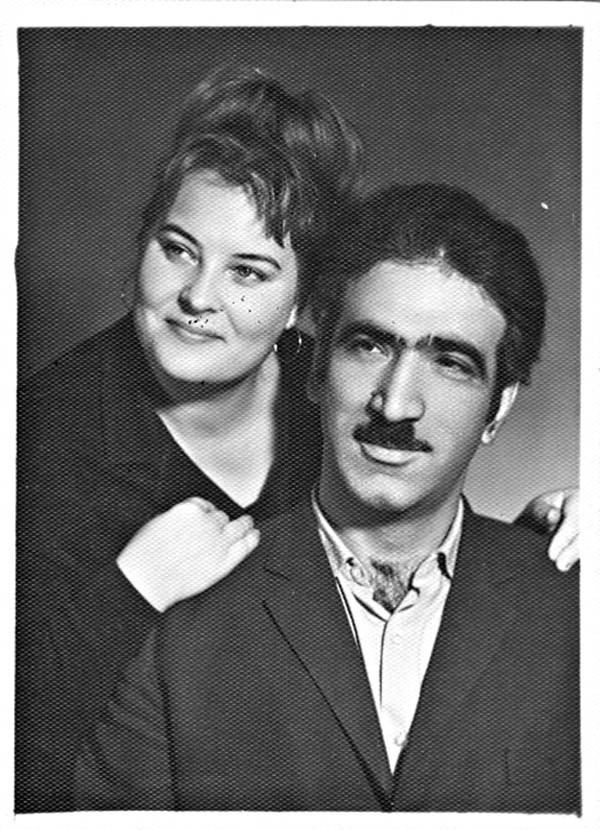
Мать, Ольга Сергеевна, была домохозяйкой, но в юности дружила с людьми, входившими в литературный кружок Маяковского, и нам, своим детям, прививала любовь к книгам и искусству. В нашем доме собирались врачи, музыканты, артисты. Наведывалась прима драмтеатра Маргарита Дагестанова с мужем Виктором, приходила Мамулова с В. Осиповым, старым моряком, начальником морского порта, бывал у нас лингвист, педагог Рубен Мельхисидеков с семьёй.
Наш дом фасадом выходил на улицу Буйнакского, а за домом шла улица Свободы, которая теперь носит имя моего погибшего старшего брата, умницы, весельчака, талантливого во всём, за что бы ни взялся, композитора Сергея Агабабова.

Я помню, как красива была улица Маркова – каменные дома с лепниной, большие деревья, смыкаясь, образовывали тенистую прохладную аллею, спасающую от яростного летнего махачкалинского солнца.
А на городском пляже с его золотистым мелким песком от зноя спасали деревянные грибки с навесами. Вдоль ограды стояли будочки раздевалок с тазиками для ополаскивания ног, и дух захватывало при взгляде на вышки для прыжков в воду, их было три, от 3 до 8 метров. По воскресеньям катер морского порта устраивал платные прогулки вдоль побережья.
Берег за пляжем был усеян рыбаками с закидушками или бамбуковыми палочками с крючками. Обычно попадались бычки, редко – тарашка или сельдь цеплялись за обнажённый крючок. В 1942 году после бомбёжки порта мы ловили оглушённую рыбу марлевыми самодельными сачками. Вообще, рыбы в городе было много и разной. Помню, когда за пол-литровую банку чёрной икры стали требовать уже не 3, а 4 рубля, я дал слово, что никогда не стану платить такую сумасшедшую цену.
Помню Привокзальную площадь – покрытая округлым речным булыжником, она была затёрта до блеска лошадьми, пролетками, фаэтонами и линейками. Стоянка их находилась тут же, неподалёку. Там на двойном сиденье в любое время года восседал разодетый, подпоясанный широким красным кушаком, улыбающийся владелец и пролёток, и фаэтона Папа Беньяминов. Его ярко раскрашенный фаэтон с фонарём на крыше был исключительно живописен. Папа знал весь город, чуть ли не каждый год он устраивал себе новую свадьбу. Лишь шестая жена, Сара, подарила ему сына.
Там же, на площади, на пятачке, огороженном чугунными тумбами с толстой морской цепью, каждый день к 5 часам вечера собирались музыканты-пожарники и играли марши к удовольствию прохожих.
От Привокзальной шла мощёная дорога до улицы Свободы, а оттуда к площади Ленина (до революции она называлась Соборной) поднималась красивая широкая лестница из тёсаного камня. На площади стояла большая двуглавая церковь, собор Александра Невского. Вокруг шумел базар, барахолка. На деревянных полках, подставках, на земле располагалось то, что можно было купить, продать, обменять. Были ряды, где продавали овощи, фрукты, ряды с морепродуктами. Прислонялись к церковной стене горы астраханских арбузов, дыни. Табак продавали, отпуская стаканами, как семечки. Почти всегда стаканы были со сколами, склеенные изоляционной лентой.
Шум, гам, ржание лошадей, привязанных к вбитым кольям в начале улицы Краснофлотской, уходящей от площади вверх к тюрьме и маяку. Тут останавливались подводы, тут была толкотня, грязь, пыль, навоз на истоптанной лошадьми земле, но у всех мужчин на поясе был кинжал.
По-над каменными ступенями, идущими с вокзала на базар, прилепленные друг к другу стояли лавки-мастерские по пошиву шапок, чувяк, туфель любых фасонов. В городе было много мастеров. Все знали, что лучшие костюмы в Махачкале шьёт Иерохумович, брюки – Куликов, белит стены и потолок Кушельман, лучшую мебель делают армяне-краснодеревщики с фабрики, косметика и маникюр – у Лисянской, чистит ботинки и сапоги Папа Беньяминов на вокзале, даже геморрой ходили лечить к известному «Пал Палычу».
Но для нас, пацанов, интересней всего были три чёрные «эмки», и счастьем было разрешение их вымыть или протереть стекло. Помню шофёров – Костю Грека (это, кажется, кличка была, но его только так и называли), Павлика Бинятова, и зав. гаражом обкома партии Алексея Гидульянова. Для нас они были как боги.
В раннем детстве я перенёс полиомиелит, на всю жизнь осталась гипотрофия и неполноценность левой ноги, но руки и пальцы у меня были очень сильные. И когда наши игры в альчики, джай и в карты перешли на финансовую основу, мой щелбан оценивался в 25 рублей. Иногда в игру вступали и «умельцы» с Краснофлотской, из портовых домов, гастролёры с вокзала, шпана с Малыгина. Проигрыш мог привести к трагедии. Мой сверстник Юра Бугаев из-за карточного долга бросился под поезд.
Война началась, когда мне было семь, и опрокинула жизнь города. День и ночь шли поезда с ранеными. Школы, техникумы, гостиницы отдали под госпитали. Вокзал, Привокзальная и прилегающие улицы были забиты беженцами, кричали растрёпанные женщины, плакали дети, скорбно молчали старики. У нашей соседки мужа убили в 1941 году, остались 5 детей. Она работала уборщицей в порту, семья люто голодала, и ели они жареный тюлений жир, от запаха которого воротило весь двор. Оборвыши-дети пытались стянуть что-либо. Один из сыновей, Яйка, вытащил из кармана пьяного 6 рублей. И отсидел за это 6 лет.
К лету 1942 года немцы подошли к Кавказу, по ночам бомбили морской порт. Разбитый бомбами причал заменили огромным баркасом с №14, который простоял долго и после войны. В порт нас уже не впускали, он был дополнительно огорожен и особо охранялся. Иногда мы по своему мальчишечьему телеграфу узнавали, что в порт пришёл транспорт с ленд-лизом и сразу мчали туда. Знакомые грузчики нет-нет да и перебрасывали нам через ограду финики, а также удивительные консервные банки с беконом и кокосовую стружку, которую мы никогда раньше не пробовали.
За хлебом стояли огромные очереди, все с номерами, написанными на ладонях чернильным карандашом. Пропустил свою очередь – становись заново, никто не будет тебя слушать и вникать в обстоятельства. Не забуду до конца жизни вой женщины, потерявшей в толпе карточки на всю семью, ничего страшнее не слышал.
Наш хлебный магазин был на Буйнакского, 27, толпа перекрывала улицу, проезд, стоял страшный гвалт. Единственный, кто мог навести порядок, был милиционер по кличке Курносый. Он нёсся как ураган, выхваченным из кобуры пистолетом раздавал тумаки направо и налево и ругался, на чём свет стоит. И очередь делалась как шёлковая. Его боялись, но и уважали. В это время нарушать порядок было тяжело. Если забирали в милицию, то сперва били и лишь потом спрашивали фамилию. Но было железное правило: ни среди шпаны, ни в милиции лежачего не били. Это было потерей чести, об этом узнал бы сразу весь город.
На Привокзальной площади в здании управления располагалась воинская часть, въезд в ворота охранял красноармеец с оружием, и неподалёку постоянно крутились две собаки: жёлтая немецкая овчарка Валет и громадная чёрная дворняга с перебитой передней лапой Черныш. Никто не трогал и не обижал этих двух собак-попрошаек. Они усаживались у магазина и каждого выходящего провожали выразительным взглядом, протягивая к нему передние лапы. Кусок хлеба следовало положить перед псами, ни в коем случае не протягивать на ладони, с ладони они не брали, никогда шершавый собачий язык не касался пальцев, протягивающих еду. И они не начинали есть, пока человек, поделившийся с ними, не поворачивался и не уходил. Такой был ритуал.
После войны в Махачкале появилось много приезжих, вчерашние сельские жители, которые, попав в город с товаром, ахали «как вы тут живёте!», понемногу начали строиться, возводить дома из саманных кирпичей и речного булыжника. Немые кинофильмы совсем пропали с экранов кинотеатров, куда-то исчез последний тапёр Артём, бренчавший на пианино одну и ту же простенькую мелодию, но наша тяга к кино оставалась неизменной. Обычно мы стояли гурьбой неподалёку от контролёрши и молили глазами. А после третьего звонка, когда в зале гасили свет, тётя Зина или толстая тётя Катя тихо шептали: «Мигом и молча». Пять-семь пацанов в темноте ныряли в 1–3 ряды, практически всегда пустые. Первый раз я и мои ребята увидели обнажённую женскую коленку в «Девушке моей мечты». Помню фильм до сих пор, смотрел его раз десять.
Нелли Кажлаева (Маслова),
преподаватель, 1920–1980-е гг.

Дедушка мой, Антон Романович Скосырев, работал на вокзале на станции Порт-Петровска. У них с бабушкой было четыре дочери, одна из них – моя мама, Ольга Антоновна.
Старшая сестра матери вышла за сотрудника органов, работавшего в то время против отрядов Нажмутдина Гоцинского, Леонида Даниловича Палиева. В 30-х годах его вызвали в Москву, а оттуда направили в Германию представителем торгпредства нашего, и они с тётей жили там в 1937–1938 годах.

А другая сестра вышла замуж в Ростов, мама как-то поехала её навестить и там познакомилась с военным лётчиком. Звали его Иван Маслов, он был родом из деревни Егупиха, это в центральной России. В 1929-м они поженились, в 1930-м у них родился первенец, а в 1938 году на свет появилась я. Так как отец был лётчиком, мы постоянно разъезжали. Война нас застала в Брянске. Мне было три года, а брат был на 8 лет старше. Отец воевал, а нам с матерью пришлось бежать из Брянска, к нему уже подходили немцы. Эвакуации я толком и не помню, знаю, что очутились мы где-то под Тбилиси – Манглиси город. А чуть позже, когда в войне произошёл перелом, был издан указ о том, что военный состав может брать семьи с собой. И вот мы ездили с отцом вдоль западных границ СССР. Брат мой погиб на Украине, в Нежине – подобрал подброшенную зажигалку и взорвался. Много тогда детей погибло – минировали игрушки, коробки всякие. Мама после того случая очень плохо себя чувствовала в Нежине, не могла больше там оставаться после трагедии, и папа похлопотал, чтобы нас перевели. Так мы попали во Львов, а затем жили в Польше, Кёнигсберге, который позже Калининградом стал, и приехали в Каунас. После войны мы больше десяти лет прожили в Каунасе, но каждый год в отпуск ездили только в Махачкалу. Мы приезжали к дедушке, который в 1945-м уже вышел на пенсию. У него был дом там, где сейчас к военкомату дорога, и кто-то открыл на месте этого дома медучреждение. Дедушку в Махачкале многие знали, и он знал многих. Дружил с Далгатами, Саидом Габиевым, а родственник дедушки по фамилии Макаров работал в администрации.

Мама, как коренная махачкалинка, даже в Литве всё время вспоминала о родном городе, рассказывала о людях, о традициях, о нравах. Помню, она там часто хинкал готовила, и все удивлялись, отчего так вкусно именно у неё получается, вроде ничего особенного. И тогда она говорила, что дело в мясе, которого должно быть «столько», а воды «столечко», и никак не наоборот.
В 1954 году отец по болезни ушёл со службы. У нас была прекрасная квартира в Каунасе, но мама кроме Махачкалы ни о каком другом городе даже слышать не хотела. Тут её сестра жила – была замужем за руководителем «Дагестаннефтестроя». Они с помощью немцев, военнопленных, строили дома на Гагарина. Хорошие были дома, добротные, но их уже, кажется, снесли. А сама сестра с мужем жили на Мичурина, 12. Туда мы к ним и приехали, когда отца демобилизовали.
Конечно, после Литвы тяжело было к Махачкале как к городу привыкать – такое всё было провинциальное, даже невзрачное, но порядок всё же был. Летом всё в зелени утопало, а зимой снег на улицах расчищали сразу же, как выпадет. Да и люди… Тут они были открытые, дружелюбные, и мне это очень нравилось. А мама была просто счастлива – ещё бы, город её детства, да к тому же море рядом. Бывало, пойдёт на берег – тогда ещё пляжа приличного не было – и начинает со всей силы дышать. Она всегда говорила, что в Махачкале дышать легче.
Мне было 16 лет, когда переехали. Надо было доучиваться, школу закончить. Отдали меня в 11-ю школу на Чернышевского. Сейчас её уже нет, как нет и многого другого, что было в моей юности. Там, в школе, я и познакомилась с Аликом, Али Кажлаевым, моим будущим мужем. Мы с ним в одном классе учились.

В 1956 году я поступила в институт, нынешний университет – в те годы он назывался Педагогический институт имени Сулеймана Стальского. Поступила на английское отделение иностранного факультета. Учились мы на улице 26 Бакинских комиссаров – там, где сейчас здание социального факультета и факультета культуры ДГУ, но кафедра у нас и на Буйнакского была, нас часто перекидывали.
Со мной на курсе Ширвани Чалаев учился, композитор наш известный. Учиться было не так сложно, потому что я уже привыкла к разным языкам. А вообще, мне очень нравилась преподавательница английского ещё в школе, потому я и пошла на иностранный. Хотя родители видели мою судьбу по-другому, они мечтали, что я стану врачом.
В 1957 году мы с Али поженились. Не очень-то было легко. Родители, когда узнали, что не за своего выхожу замуж, а за дагестанца, за лакца, очень расстроились. Они в крепость такого брака не очень верили. Отец меня даже в Баку отправил, но Алик нашёл меня там. Кто-то сдал, проговорился! Родители Али тоже наверняка свою хотели, но он был твёрд и родителям сказал, что ни на ком другом не женится. Ну, и обе стороны сдались, а что им делать?
Как оказалось, проблемы и трудности были во многом надуманными. Отец с Аликом прекрасно ладили, у них даже вошло в привычку вместе ездить на рыбалку. Да и меня в семье мужа нормально приняли. Семья была такая, что ничего плохого не могу сказать. Свекровь – изнеженная женщина была, одевалась красиво, изысканно и держала себя соответственно. Но мы с ней как-то неожиданно быстро нашли общий язык. А мой свёкор, Нажмутдин Кажлаев, три года руководил Махачкалой. Землетрясение мая 1970 года как раз пришлось на его период. Узбек-городок, гостиницу «Ленинград» при нём отстроили. Мало говорят о нём, а он очень многое сделал для города, для республики, для страны, замечательный был человек. Кого только на похоронах Нажмутдина Гаджиевича не было...
В том же 1957 году мы с мужем уехали в Саратов, и мне пришлось перевестись. Позже туда к нам переехали и мои родители. Так вот, доучилась я в Саратове на технического переводчика, немного там проработала, и мы вернулись сюда ещё в первой половине 1960-х. Какое-то время жили на Советской. С нами и золовка моя, Шуана, со своей семьёй жила, переехала из Москвы. Она тогда была замужем за поэтом Адалло. У них был сын Шамиль одного года с моей второй дочерью Аймисей, и Адалло очень о нём заботился, даже на молочную кухню сам ходил. Вообще, он замечательный муж и отец был.

В 1970-х мы переехали на Калинина, получили квартиру, в которой даже полов на тот момент не было, но мы так счастливы были! Ремонт сделали, переехали. По соседству с нами у семьи Ниналаловых квартира была. И мы с ними одной семьёй жили. Дети дружили, и мы, мамы, между собой. В 1972 году Алик проректором в Дагестанском политехническом институте стал, там и проработал до 1981 года.
А мои родители с конца 1950-х годов так и жили в Саратове, пока не стряслась беда и наш младший сын Русик не заболел. Прививка не подошла. И тогда, а это было уже в 70-х, мама с папой переехали назад в Махачкалу. Видимо, никак не отпускал их город, такое случается. Отец здесь в ДОСААФ работал и постоянно ездил в командировки в горы, а оттуда приезжал то с папахой, то с буркой – довольный.
Я преподавать устроилась сначала в ДГУ, затем в политехнический институт. Преподаю и по сей день. Многое изменилось. Мужа уже нет давно. Больше двадцати лет прошло, а осадок до сих пор горький. Остались две дочери. У каждой свои семьи. Марина уже на пенсии, но продолжает работать. Она – одна из первых узистов в Дагестане.
Рубрику ведёт Светлана Анохина
Редакция просит всех, кто помнит наш город прежним, у кого сохранились старые фотографии, связаться с нами по телефонам: 67-06-78 и 8-988-291-59-82.
Фото из архивов музея истории Махачкалы и героев публикации
- 219 просмотров